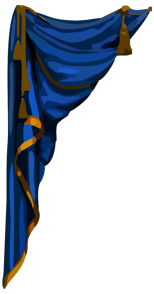«Его величество—Театр!»: Юрий Капустин
Людмила ВАРШАВСКАЯ-ЕНИСЕЕВА
Юрий Капустин, актер театра и кино. Заслуженный артист РК, лауреат Государственной премии РК. Выпускник Саратовского театрального училища и Киевского Государственного института театра и кино. В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова с 1970 года. Здесь, на этой сцене, Юрий Николаевич сыграл около ста ролей, в том числе в спектаклях «Две зимы и три лета», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Живи и помни!», «Последний посетитель», «Эта странная миссис Сэвидж», «Эзоп», «Пока она умирала», «Мужской род, единственное число», «Иванов», «Цена», «Смешанные чувства». Его режиссерские работы - «Двое на качелях», «Наедине со всеми», «Двойная игра, или Условия диктует леди», а также «Маскарад» в театре «Бенефис».
ЮРИЙ КАПУСТИН: ГЛАВНОЕ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ВПЕРЕДИ
Закончилась последняя застольная репетиция шекспировского «Короля Лира» - спектакля, которым коллектив Театра им. М. Ю. Лермонтова вместе с двумя другими постановками решил ознаменовать свое 75-летие. Все, что требуется на этом этапе работы над пьесой, выяснено и обговорено, дальше действие должно быть перенесено на площадку. Но в театре идет первый за все 40 лет существования его здания капитальный и, как у нас полагается, ну-у-у, очень затяжной ремонт. Репетиции на энное время откладываются. Они возобновятся, как только рабочие пустят актеров на сцену. Пустить-то, они, безусловно, пустят, однажды это случится, но когда? Думаю, гадать мы не будем. Мы воспользуемся моментом, чтобы поговорить с исполнителем заглавной роли будущего спектакля - заслуженным артистом республики Юрием Капустиным об этой и других его работах, о театре как таковом и жизни в нем.
- Король Лир,– говорит Юрий Николаевич, - это самый главный на сегодняшний день персонаж в моей жизни, хотя я никогда не был обделен репертуаром и ролями, причем, очень большими и сложными. Конечно,это щедрый подарок судьбы, и огромное спасибо постановщику спектакля, художественному руководителю нашего театра Рубену Суреновичу Андриасяну за то, что он остановил свой выбор на мне, хотя я не совсем понимаю, почему это случилось. Я всегда мечтал о Ричарде Третьем и никогда в мыслях даже не держал короля Лира. Но Рубен Суренович привел свои аргументы, и я с ним не мог не согласиться.
Роль, безусловно, грандиозная, а Шекспир, мне кажется, автор так до конца и не познанный. Со своей невероятной глубиной, невероятными загадками и очень-очень хитрый. Самая большая хитрость его заключается в том, что он дает огромное поле деятельности и режиссерам, и артистам: «Ну, давайте, ребята, давайте! Ну-ка, попытайтесь покопать, что вы из этого извлечете? Как вы к этому подойдете?»
- То, что Рубен Суренович на период капитального ремонта решился запустить такую громадину, можно считать, наверное, поступком?
- Безусловно, хотя в этом был и свой практический смысл. Образовывался довольно большой запас времени, что очень важно для разгона. Можно репетировать, можно остановиться, поосмыслить пьесу, подумать еще, и опять… Вот сейчас, после застольного периода, у меня большая пауза, потому что у нас нет площадки для репетиций. Но ведь я живу в мире Шекспира. Я читаю о нем, его времени, его жизни и творчестве. В основном это историко-исследовательская литература, где для меня много интересного и полезного. Осваивая все это, наконец-то понимаешь, что такое этот самый «Король Лир». Материал, конечно, неоднозначный. И хотя историки считают, например, что и первая сцена пьесы, где идет разделение королевства, и последняя, когда все объединяются в борьбе за государство, - наивные и искусственные, но когда сопоставляешь исторические источники с текстом, то удивляешься тому, насколько эти сцены уместны и органичны.
- «Король Лир», насколько известно, сейчас очень востребован.
- Да, он идет в Москве на трех площадках, в Петербурге, Кончаловский поставил его в Польше и хочет сделать то же самое в Москве. Чем это объяснить? А очень просто. Пьеса была написана в период и о периоде, когда в Англии наступал капитализм. Когда трудно стало в стране с экономикой и социальными проблемами. Когда разделение общества пошло на богатых и нищих. Не на богатых и бедных, а именно нищих. И вдруг в голове этого руководителя, которого зовут Лир, возникает идея, что спасти это громадное государство можно, лишь разделив его. Разделив трём дочерям – на три части. Разделить, не дав кому-то выйти далеко вперед, а кому-то погибнуть. Так проще будет выжить. Но, приняв это решение, Лир совершает политическую ошибку. Он не учитывает человеческого фактора. Не берет во внимание характеров тех, кому отдает эти части государства. Так фактически состоялась одна из трагедий разочарования в близких, которые предали Лира. Ведь это очень страшно, когда человек наталкивается на предательство. И вот, разбираясь во всем этом, я, в конечном счете, задался вопросом: так где же, в каком месте король Лир был более безумен - в начале пьесы, когда он делил государство, или в той знаменитой сцене бури, когда он уже непонятно что из себя представляет? Когда со всеми разговаривает – и с громом, и с дождем, и с ветром? Задался вопросом и пришел к выводу, что самое большое безумство посетило его в первой картине, когда он сказал, что все отдает дочерям.
- Но это та самая сторона вопроса, из которой вытекают две другие темы. Одна - взаимоотношения отцов и детей - истории Лира и его дочерей, а также Глостера с его сыновьями. И вторая – власть и человек.
- Не то, чтобы вытекают. Я бы сказал, что тесно переплетены. И именно в этом тандеме они являют пищу для авторских размышлений о том, как человек меняется, находясь долгое время у власти, и что делает с ним эта власть. В какой-то момент обладающий ею начинает думать, что он - первый, что он Бог. Это жесточайшее заблуждение, и тот, кто возомнил себя Богом на земле, сам себя уничтожает. Да, это так, говорит Шекспир, подвергая Лира этому страшному испытанию. Но он же заставляет его пройти через все душевные муки для того, чтобы властитель в нем переродился в человека. Все эти линии, их разработки, внутренние связи и штрихи были обговорены за столом, теперь дело за площадкой.
- А до этого спектакля с Шекспиром тебе приходилось встречаться?
- Приходилось. Первый раз в Саратовском театральном училище. Я был студентом третьего курса , когда выпускники наши ставили свой дипломный спектакль «Двенадцатая ночь». У них не хватало парней, и меня пригласили на роль капитана, друга Виолы. То был небольшой эпизод на просцениуме, но он мне запомнился, потому что были очень хорошие костюмы. Потом после окончания института я работал в драмтеатре Ставрополя, где в репертуаре был «Король Лир», и я исполнял роль Освальда - дворецкого Гонерильи. В 1974 году уже на лермонтовской сцене мне доверили сыграть Шута в шекспировской комедии «Все хорошо, что хорошо кончается». У нас там была хорошая сцена с Померанцевым в роли Пароля. В ней сначала он отчитывал меня, а потом я брал верх над ним и буквально уничтожал его остротами и издевками. Видел я также самое последнее представление «Короля Лира» с Диордиевым и Померанцевым после карагандинских гастролей театра. У Юрия Борисовича там была колоссальная работа. Он играл Шута, но то был иной, чем у меня, глубоко человеческий и по-своему трагический образ. А Евгений Яковлевич, он же дядя Женя, в Лире был традиционным - такой большой, с лохматой бородой, очень импозантный и трогательный, особенно в последних сценах.
- Твой Лир будет другой?
- Хочу верить, что так. Ну, во-первых, никакой бороды. В этом меня убедил Михоэлс. Он же первый отказался от нее .У Михаила Козакова, который сейчас играет его в театре Моссовета, подход к внешнему облику традиционный, у Додина тоже. Но у нас свое, отличное от всего, что было, направление. Никакого бытовизма и свойственных ему подробностей. Оформление, что предлагает художник Эрнст Гейдебрехт, и костюмы Людмилы Кужель не привязываются к тому или иному времени. Это будет такой несколько странный военизированный стиль – омоновские ботинки, черные брюки и рубашки, латы. Нечто близкое к кинофантастике.
- То есть, не стилизация, а переосмысление на другое время, на другую эпоху?
- Нет, скорее, что-то вневременное.
- К королю Лиру ты подошел с огромным багажом в сто с лишним названий сыгранных тобой ролей. Какие из них тебе дороги особенно?
- Роли для актера все равно, что дети, а детей мы любим всех, даже если что-то там не получилось. И хотя я не был избалован репертуаром в массе своей, но на сегодняшний день в моем активе такие прекрасные персонажи, как архиепископ Парижа Шаррон в «Мольере» Булгакова, Игорь - «Пока она умирала» Птушкиной, Уолтер Франц в миллеровской «Цене», Альбер Ламар – «Мужской род, единственное число» Брикера и Ласега и другие. Есть среди них роли, которых многие из моих коллег уже не сыграют, потому что то были пьесы того, советского времени, и они уже ушли. К ним относится, например, спектакль «Живи и помни!» Валентина Распутина, где у меня была роль Гуськова. Действие его происходит в годы Вели¬кой Отечественной войны. Мой герой – Андрей Гуськов ехал, если помнишь, из гос¬питаля на фронт, но пробрал¬ся в родные места и явился к жене Настёне. Та спрятала его во времянке недалеко от род¬ного дома, и стал он с той поры дезертиром.
- Это был очень хороший спектакль, и роль твоя была очень сложной с точки зрения психологии.
- Сложной чрезвычайно, хотя работу над ней я вспоминаю с наслаждением. Инициатива самой постановки исходила от меня. Я тогда исполнял обязанности главного режиссера нашего театра, увидел анонс инсценировки МХАТ, пришел к директору и говорю, вот поставить бы это у нас! Он: «Нет проблем, сейчас позвоним в Москву!». Набрал репертуарный отдел – да, есть такая инсценировка! Через неделю пьеса пришла, но я не успел реализовать ее сам. К тому времени в театр назначили главным режиссером Валерия Иванова, затем приехал очередной постановщик Юрий Костенко, и Иванов велел делать ему этот спектакль, где я получил желанную мне роль.
На репетициях, помню, работал до изнеможения. Нет, не то, чтобы я себя изматывал. Просто по-другому было невозможно – уж больно серьезным был материал, где ни на йоту нельзя было отойти от правды чувств. Мой Гуськов стал изменником, исключив тем самым себя из списка живых. Он сломался, а время и полная безвыходность положения продолжали деформировать его дальше. Загнав себя в вечное заточение, он жил в постоянной настороженности, осознании тяжести непростительного поступка, боязни, что его обнаружат. В терзаниях собственной совести и поисках доводов для оправдания содеянного. Ничто не облегчало его вины ни перед миром, ни перед Богом, ни перед самим собой.
- То есть, вся безысходность на одного персонажа? И тебе, конечно, пришлось принять этот груз, чтобы пропустить через себя!
- А как же, он ведь человек. Да, проявивший слабость, да, взваливший на себя тягчайшую вину, но не утративший совести. В нем жила мяту¬щаяся, исстрадавшаяся душа. Эмоциональность по внутренней линии шла в десятикратной степени. Однако сверхсложностей никаких. Просто надо было впитать в себя тот способ существования, который предлагал нам режиссер. Это были так называемые челночные мизансцены. Мы ведь привыкли как? Друг перед дружкой встали и разговариваем. А тут вращение круга сцены для параллельного показа происходящего в доме Гуськовых и в зимовье Анд¬рея. Была еще и очень значимая по ходу пьесы ситуация в связи с предстоящим появлением младенца у Андрея с его Настёной, и драматизм ее надо было в этом вечном движении как-то представить. Словом, напряжение огромное, внутренних сил требовалось много, и их надо было нарабатывать, как спортсмену.
С жизнью села военных лет и первой послевоенной поры был связан также ранее поставленный Сулимовым спектакль «Две зимы и три лета» Федора Абрамова. Тема его укладывалась во всем знакомое тогда «Все для фронта! Все во имя Победы!», и я исполнял там роль вчерашнего пацана Михаила Пряслина, оставшегося в деревне за мужчину. По-крестьянски обстоятельный, безотказный в работе (чего только ни смастерили, кому только ни помогли его руки!) прямой и категоричный в своих суждениях, он привлекает внимание красавицы-вдовы Варвары. Ее сочно и озорно играла Алена Скрипко. Чувство Варвары отозвалось в сердце моего Михаила, и любовь наша – большая, на всю оставшуюся жизнь! - стала одной из основных линий спектакля. Там же, в этом спектакле я со временем сыграл едва ли не все мужские роли. На председателя колхоза во время гастролей нашего театра в Москве ввелся буквально за два часа. Исполнитель этой роли заболел, и пока шло первое действие, пока меня одевали и гримировали, я вложил в себя полагающийся текст.
- Из знаковых фигур ушедшего в историю советского времени был, если я не ошибаюсь, твой Казмин в «Последнем посетителе».
- Да, по пьесе Владлена Дозорцева. Рубен Суренович ставил ее в 1986 году, и я, вернее, мой герой был в нем не просто заместителем министра здравоохранения, а без пяти минут министром. Это к нему на вечерний прием по личным вопросам пришел тот самый Посетитель – его прекрасно играл Лева Темкин - и предложил моему Казмину оставить свой пост, потому что он не имел морального права занимать его. Пришедший человек напомнил, что мой герой – высочайшей квалификации хирург и отличный организатор в области здравоохранения, попал в свое время на должность замминистра, поступившись собственными принципами. Посетитель был прав – мой Казмин, кстати, во имя самой же медицины, действительно пошел на такую сделку с совестью, что ему, по природе своей человеку порядочному, не давало спокойно жить. Чувствуя себя виноватым, он давно понял, что не прав, и казнился этим. Так что появление Посетителя, его крепкая, доказательная логика в обвинении были равносильны встрече с собственной совестью. Роль была психологически сложной, социально значимой и злободневной. И работать над ней приходилось, конечно, интенсивно. Всего мужских ролей там было три – моя, Левы Темкина и Гены Балаева, который играл моего помощника Ермакова. Команда подобралась веселая, остроумия у ребят было не занимать, репетировали с шуткой-прибауткой, и это было удивительно.
- Так вы же там все были хохмачи!
- Это Лева с Геной. А я - я просто при них. И представляешь - получилось! Получилось. В тот год у нас были гастроли в Москве, так там на обсуждении в Министерстве культуры закрепленный за нами критик, сравнивая наш спектакль с постановками этой же пьесы в других театрах страны, сказал, что у нас по уровню проникновения в тему, исполнительскому мастерству он оказался намного выше. Работа была, конечно, крепкая, и мне очень жаль, что в этом составе мы больше никогда не встретились. Не пришлось.
Значимой для себя считаю я два года назад состоявшуюся мою премьеру - спектакль «Смешанные чувства» Баэра в постановке Владимира Молчанова. Это очень симпатичная пьеса о двух оставшихся в одиночестве людей. Ему, Герману Льюису, - 65, ей, Кристине Мильман, - 63. У него уже три года, как умерла жена, она год, как потеряла мужа. У нее дочери, с которыми она не может найти общего языка, у него – сын, живущий своей жизнью. И вот они, два давно знакомых пожилых человека пытаются убедить себя и друг друга, что вместе им будет лучше. Моя партнерша по спектаклю - Мила Тимошенко, и мы с удовольствием раз-два в месяц играем его. Хорошая, счастливая для нас работа, потому что в ней есть тема и есть повод поговорить о серьезном.
- Тема одиночества во все времена востребуема, и очень хорошо, что нашелся замечательный материал для раскрытия ее. Ну, а если говорить о тематической направленности, то нельзя не вспомнить недавний спектакль вашего театра «Эзоп» («Лиса и виноград»). Спектакль, во главу которого поставлено человеческое достоинство и стремление к свободе. И что бы в ней ни происходило, сколь неожиданно ни поворачивался бы очередной виток событий, все сходилось на одном: Эзопу нужна свобода и только свобода, даже если цена этому - жизнь! Высокая и красивая драматургия. Судя по реакции публики, она находила отклик у каждого зрителя, зал в целом воспринимал ее с трепетом.
- Действительно, это был спектакль удивительной наполненности. Древняя Греция, дом богатого, почитаемого горожанами философа, блистательные творения баснописца Эзопа, ораторское красноречие моего Ксанфа, успех его в публичных выступлениях, пусть даже за счет использования эзоповских сочинений, но все-таки успех, совершенно невероятные ситуации любовного порядка. Все это давало мне, актеру, богатую пищу для размышлений и широкие сценические возможности. Мой Ксанф интересен и неоднозначен своей противоречивостью. Чего только ни намешала в нем природа! Здесь непомерное тщеславие и умение по достоинству оценить необычайную одаренность ничтожного раба, мелочность и великодушие, сластолюбие и страх одиночества. Ксанф в «Эзопе» – подарок судьбы, за который я так же, как режиссер-постановщик спектакля Рубен Суренович Андриасян, художник Владимир Кужель, актеры Ирина Лебсак и Сергей Погосян, получил еще и Государственную премию Республики Казахстан 2002 года.
- Госпремия – это высочайшее признание, и я думаю, что ты заслужил его не за одну только роль. У тебя ведь, кроме игровых, были спектакли, где ты приложил руку еще и как режиссер.
- Несколько спектаклей, и первый из них - «Двое на качелях» Гибсона, который мы с Ниной Жмеренецкой с благословения Мара Владимировича Сулимова начали сами, потом показали ему сделанное. Посмотрев прогон, он сказал: «Менять ничего не буду, лишь изнутри подтолкну вас». И через две недели мы выпустили спектакль, который играли с Ниной, начиная с 1973 года, 13 лет. Срок для сцены немалый, и долгожительство такое вполне объяснимо. Есть пьесы, где воспеваются вечные темы, и они, эти пьесы, нужны нам. «Двое на качелях» относится к ним. Она об отношениях мужчины и женщины, взаимных привязанностях и антипатиях.
Должен сказать, что в самостоятельных своих постановках я много взаимодействовал с Ниной Жмеренецкой. Она настоящий трудоголик и всегда добивается того, что определила себе задачей. Нина всякий раз выступает инициатором наших начинаний, находя для этого пьесы. Следующей совместной работой спустя десять лет была пьеса Гельмана на двоих, и называлась она «Наедине со всеми». Там было очень удачное оформление, выполненное большим мастером театрального дела, ныне, к сожалению, покойным Игорем Борисовичем Бальхозиным. Оно было локальным, как-то по-особому проникновенным и удивительно сошлось с тем, что переживали наши герои. И был еще такой забавный момент. Когда мы взяли в работу эту пьесу, директор театра сказал: «Ставьте, но только на сдаче ты будешь разговаривать с министерством сам». Тогда ведь спектакли принимала комиссия Минкультуры, и фактически ни один из них не одобрялся с первого раза. А нас… Я прыгал в фойе театра до потолка, когда все обошлось без единого замечания. Буквально сходу. И это было здорово. Потом, когда МХАТ привез сюда на гастроли спектакль по этой же пьесе с Ефремовым и Лавровой_в главных ролях, то специалисты сказали, что наш вариант интереснее. Было очень приятно.
В промежутке между этими двумя работами я поставил «Снега метельные» по пьесе казахстанского автора Ивана Щеголихина. Спектакль был посвящен 25-летию целинной эпопеи. И последняя моя режиссерская работа – «Двойная игра, или Условия диктует леди» Элиса и Риза, которая, как и первые две, сложилась без особых трудностей.
- Тоже на двух актеров.
- Тоже. Я там играл безработного бродягу Дункана Макфи, который как две капли воды похож на погибшего мужа Филиппы Джеймс. Обстоятельство это более чем на руку овдовевшей леди, потому что ей, оказывается, полагается по за¬вещанию одного из родственников миллион франков после того, как она вживе представит адвокатам своего мужа. Если можно наследство получить, то почему бы это не сделать? Тем более, что двойник благоверного есть, и его нужно лишь привести в соответствующий вид, обучить манерам, поведению аристократа и, что немаловажно, почерку мужа. И тут я хотел бы заострить внимание на том, что, обращаясь время от времени к пьесам, где идет речь об отношениях между представителями сильной и слабой половин человечества, я вижу разницу в расстановке их сил при решении своих проблем. И если в «Маскараде» Лермонтова, который я ставил в театре «Бенефис» и играл там Арбенина, это обозначалось как «Мужчина и женщина», то в «Двойной игре» она звучала как «Женщина и мужчина».
- О, это что-то новое в постановке вопроса!
- Не то, чтобы новое, просто другой ракурс. В «Двойной игре» для меня была важна прежде всего леди, и я все выстраивал на нее. Жена моя, Ирина Семеновна говорила мне: «Юра, что такое? Ты постоянно вполоборота к зрителю. Я больше вижу твою спину». «Так это правильно, - отвечал я, - для меня ведь важно, чтобы крупным планом была Филиппа. Когда мне надо будет показать своего Дункана Макфи, я развернусь». То есть, главным было хорошо высветить героиню Нины, дать ей с достоинством пройти по винтовой лестнице, продумать все нюансы и детали аферы. Мы постарались это сделать, и получился хороший и, как мне кажется, интеллигентный спектакль. А в «Маскараде» я делал упор на Арбенина.
- Вообще постановки на двоих воспринимаются, как правило, на одном дыхании. В чем особенность работы над ними?
- В общности душ, понимании друг друга, умении договориться, прийти к единому знаменателю. Я же говорю, что больших сложностей, непреодолимых моментов практически не было. Мы работали с Ниной в удовольствие, хотя могло бы быть и по-другому. Ведь когда из двух артистов один берется за постановку, то другому тоже хочется порежиссировать. Но тут все шло по раз и навсегда усвоенному нами правилу: в любом спектакле есть режиссер со своей концепцией, и хочешь того или нет, ты должен следовать этой концепции. Должен влюбить себя в нее. Если тебе что-то кажется не так, ты это «кажется» должен оставить при себе. Тут телегу везут двое. Один никогда не справится. И уж коль вы в нее впряглись, так помогайте друг другу, чтобы зритель понимал и воспринимал вас. Были, конечно, как в любой работе, и неровности. Кто-то из нас с чем-то не соглашался, кто-то отстаивал свое, но, в конце концов, нет такого репетиционного процесса, чтобы он был мягким, гладким, без сучка и задоринки. В целом от этого творческого содружества у меня остались приятные воспоминания.
- За многие годы работы актерам приходится сталкиваться с разными сценическими персонажами. Если не всякий раз, то почти всякий это terra incognita, которую, как Робинзону, нужно обжить.
- Естественно, сколько ролей, столько характеров, столько профессий. Я уж не говорю о страстях и увлечениях, жизненных принципах и поставленных перед собой целях. Во все это надо вникнуть, все освоить. Готовясь к исторической пьесе, не грех просмотреть нужный иконографический материал, произведения художников, почитать специальную литературу. К спектаклю о физиках просветиться по части квантов и теории относительности. А когда понадобится представить кого-то из великих, то познакомиться нужно не только с биографией героя, но и его трудами, окружением, дневниками и письмами, воспоминаниями и высказываниями.
- Выходит, каждая роль – это самообразование?
- А как же! Если нет должного наполнения, то мы просто изрекаем словеса, сотрясая воздух и образуя в спектаклях прискорбные пустоты. Важно бывает все, вплоть до самых мелочей. Взять, к примеру, того же «Последнего посетителя». Там в спектакле я изначально врач-хирург. Мое направление – торакальная хирургия. Далекий от медицины человек, я, конечно, никакого понятия о такой области в ней не имел. Полез в словари. Оказалось, «торакс» – это грудная клетка. То есть, мой Казмин был ас по операциям на грудной клетке. Если бы я в этом спектакле не участвовал, то, наверное, не узнал бы этого. А узнать было необходимо хотя бы потому, что там по ходу действия ко мне приходит посетительница как раз насчет такой операции, которую сделали ее мужу, и она была неудачной. То есть, это один из главных вопросов пьесы, и я, артист, чтобы сыграть как надо, должен был в нем разбираться. Естественно, я начал интересоваться, копаться в энциклопедии, справочниках, специальной литературе, газетах.
Или вот - в «Смешанных чувствах» я торговец коврами, и мне надо прямо на сцене эти ковры скатывать. Казалось бы, что сложного? Но как именно? Как это делают профессионалы? Поехали мы с женой в ковровый магазин – мол, продавцы-то уж точно знают, как обходиться с этим товаром. Зашли, пронаблюдали, поспрашивали. Жена говорит: «Слушай, так у них все, как у тебя. Фьюить – и порядок!». А я действительно добивался того, чтоб ковер скатывался ловко и играючи.
- Движения, видать, интуиция подсказала?
- Может, интуиция, а, может, и какой торговец во мне сидит! Но не все, скажу тебе, дается так легко. Трудности могут возникнуть в самых, казалось бы, элементарных моментах. Например, эпизод с едой. В спектакле «Живи и помни!» мой Андрей укрывался от глаз людских в бане. Туда жена ему приносила кусок сала с хлебом, и я этот кусок буквально рвал и ел. Ел так, что кто-то говорил мне: «Невозможно в зале сидеть, так хочется этого сала!». То есть, надо было показать, что персонаж голоден, но сделать это вкусно. Все в меру откровенно и в меру эстетично, чтобы зрителю в зале захотелось есть, а не оттолкнуло от тебя. У меня это, видать, получилось. Но на сцене одновременно есть и разговаривать, оказывается, очень сложно. Подумаешь, скажет кто-то, тоже мне проблема – в разговоре съесть кусок хлеба! Бери горбушку да говори сколько хочешь! А ведь многие не могут. Им либо еда, либо беседа. Потому как от волнения, от необходимости все произносить четко и доходчиво во рту все застревает, и ничего не скажешь. Тут хочешь-не хочешь, а нужна натренированность, нужно мастерство.
- Скажи, а из своей биографии ты что-то берешь для ролей?
- Видишь ли, материалом для них является сам артист с его весом, ростом, цветом глаз, с его мироощущением и биографией. И хотим мы того или нет, нам это помогает. Так что, естественно, мой жизненный опыт, моя биография, все события, что происходят со мной, в той или иной мере влияют на содержание того, что я делаю на сцене. Это, так сказать, мой изначальный вклад в будущего героя. А потом идет наполнение извне. Наша профессия, она ведь в чем заключается? В том, чтобы присвоить чужие слова, чужие мысли и поступки. Присвоить и воспроизвести. Но сделать это со своим отношением, согласно собственной позиции. Иной человек скажет – и зачем вам это нужно? Ведь вы постоянно дергаете свою душу и нервы. К чему себя так испытывать? Но ведь если не дергать, не испытывать, если все делать с холодным носом, то ничего не получится и ничего не родится. Поэтому, получив роль, я ищу в ней те моменты, которые совпадают с моими знаниями и ощущениями. Тогда моя душевная боль материализована, и идет в зал уже насыщенной.
- Словом, сложная у вас профессия, мудреная!
- Ну, как тебе сказать? Мне кажется, что весь фокус ее заключается в шаманстве, и начинается оно, как только ты переступаешь порог сцены. Переступаешь, оставляя за кулисами бытовые дела свои, привлекая органику и способность творить на сцене. И, конечно, лукавят артисты, говоря: «Волнение! Да какое волнение! Я уже двести раз этот спектакль играл». Ничего подобного! Все мы знаем про неповоротливые руки и одеревеневшие ноги при выходе на публику. Голову повернуть – голос странный и чужой. Но секунда-другая, и включается та самая органика, учащается биение пульса, начинает крутить кровь энергометр, зажигая азарт, вызывая к жизни кураж. Импульс этот тут же передается зрителю, зал получает должный заряд, и пошел спектакль, пошло представление!
- Но подготавливает это шаманство репетиционный процесс.
- Репетиции - это повтор, повтор, тренировка. И чем больше я затрачиваюсь на них, тем легче мне в спектакле. Я на репетиции выкладываюсь. В быту не испытываю таких, как там, нагрузок. Помню, как во время работы над спектаклем «Живи и помни!» Костенко смеялся. Отыграв сцену, я упал в изнеможении на спину. Он спрашивает: «Ну, что?». Я говорю: «Сейчас. Подожди, отдышусь, и еще раз повторим». Он: «Да нет, хватит, отдыхай!».
- Что, все шло на такую отдачу?
- Да. И золотые слова сказаны были в свое время Сулимовым, когда он еще возглавлял наш театр. «Репетировать надо весело», - говорил он. Мар Владимирович был очень требовательным на репетициях, но всегда точно чуял, когда артисты начинают замыливаться. Он вдруг делал паузу, рассказывал пару анекдотов, артисты хохотали, и сцена шла дальше легче. Все правильно. Не испытывая азарта в поисках нужного состояния, истины не достигнешь. Сколько раз бывало – головой понимаешь, что надо делать, как двигаться, а физически оно не выходит. Сама реализация бывает сложной. И когда в репетиции ты пытаешься добраться до дна, то спектакль получается. Но для этого нужно, чтобы организм работал полностью. И шутка-прибаутка – лучшее средство от усталости.
- Но какие-то репетиции идут, наверное, с проскоком. Если тот или иной кусок хорошо отработан, его вряд ли надо вновь подробно проходить.
- Да, у артистов есть такая тенденция – поработать технически. И если режиссер порой предлагает что-то пробросить, я это не приветствую. Позволение самому себе сработать в пробросе раз повторится еще и еще, войдет в привычку и, наконец, превратится в характер. Потом мы начнем делать в этом пробросе все. Вот порой мы и смотрим спектакль – вроде все есть, а чего-то не хватает. Такое случается со многими, и с большими артистами в том числе. Помню, в середине восьмидесятых годов минувшего века приехал в Алма-Ату мой тесть, и я повел его на «Тифлисские свадьбы». Князя Пантиашвили играл Диордиев. После спектакля едем домой, тесть говорит: «Слушай, видать, сегодня ему не очень хотелось играть, но какой артист!». Действительно, у Евгения Яковлевича были такие моменты, когда он все делал через губу. Но от своей индивидуальности далеко не уйдешь, и потому, ежели ему выпадала честь выйти на сцену, то он все равно… Ну, бывает недомогание какое-то. Но уж когда у него все сходилось, это было потрясающе. А тесть мой в этом отношении человек был не посторонний – он одно время учился у Мейерхольда и работал в театре у Охлопкова. Так что толк в нашем деле он понимал. Помню, я принес ему диплом с отличием, и он сказал: «Юрка, плевал я на ваши Красные книжки! Ты выходи на планшет, показывай, что можешь, и я скажу – артист ты или нет. Вот и все».
- И как, признал он тебя на площадке?
- Признал! Ну, а что касается сложностей, то они, естественно, имели место. Была, например, у меня такая странная роль в «Факультете ненужных вещей» по Юрию Домбровскому – роль Сталина. Три эпизода с ним. Репетировать было нелегко хотя бы потому, что фигура эта узнаваемая, историческая. К тому же, у каждого свой Сталин. И нам с Рубеном Суреновичем Андриасяном, который ставил спектакль, надо было что-то такое придумать, чтобы приблизить вождя к зрителю. В первой сцене, когда ему докладывают о сидящем в лагере известном поэте (его играл Померанцев) и просят освободить того, я предложил простой ход – у Сталина радикулит! И вот он как обычный рядовой человек ходил с радикулитом по комнате и разговаривал про этого поэта. Потом кто-то после сдачи сказал: «А ведь сработало! Сколько я на сцене смотрел, Сталин ни у кого не получается, а у тебя получилось». Получилось. И что ты думаешь? Сцену эту было велено вырезать! Дело в том, что на премьеру к нам пришел только что заступивший на место Кунаева Колбин. Он принял у нас эту работу. А вместе с ним, конечно же, присутствовали и «черные пиджаки». На следующий день Рубен Суренович приглашает меня и говорит: «Знаешь, спектакль длинный, очень длинный. Придется пожертвовать твоей сценой». Оказывается, так решили «товарищи», и причиной тому было вот что. Сыграв дачную сцену, которая заканчивалась моими словами, я уходил. А, уходя, поворачивался, и произносил еще два слова. И все. Но получилось так, что сцену-то я закончил, а когда уходил окончательно, раздались и аплодисменты. Как, Сталину аплодисменты? Да как можно такое допустить? И вымарали тогда эту сцену. Вот это один из прецедентов того, советского времени, когда в том или ином решении фокусировались идеология, политика, непонимание театра и психологии зрителя, отсутствие вкуса и страх перед вышестоящим начальством.
- Репетиции, наверное, самое главное в твоей работе?
- Весь парадокс в том, что я не люблю репетировать. Вообще для актера самое первое и основное – спектакль. А репетиция, где мы работаем во имя будущего спектакля, процесс длинный, специфический, и о сложностях его даже не расскажешь. Спрашивая об этом, зрители в первую очередь интересуются, как нам, артистам, удается выучивать так много текста? Текст я не учу никогда. Артисту учить его и не надо. Ну, разве когда он срочно вводится на ту или иную роль. Ведь что такое слово? Это результат мыследеятельности. Значит, я должен провести себя по всем ситуациям своего героя - именно по ситуациям, чтобы у меня возникла потребность говорить эти слова. Когда это случится, они сами уложатся, и не обязательно во время репетиции. Произойдет это непременно, надо только терпеливо ждать. Рубен Суренович, скажем, никогда не торопит меня в репетициях. А я роль свою переписываю на маленькие листочки и ношу их с собой, хотя мало в них заглядываю. Они укладываются у меня в ладони. Но как только я начинаю понимать, что уже мешаю партнерам своими шпаргалками, то тут же оставляю их в покое. «Ой, - удивляется Рубен Суренович, - а ты что, сегодня без текста, что ли?». А я действительно его отложил, потому что как только приходит понимание того, что именно происходит в пьесе, текст роли уже внутри меня. Потом, в ходе спектакля, его надо лишь достать.
- Говорят, роли любят, чтобы им отдавали должное внимание.
- Верно. Вот сейчас у меня в активе Альбер Ламар в спектакле «Мужской род, единственное число», Уолтер Франс в «Цена», Игорь в постановке «Пока она умирала» и Герман Льюис в «Смешанных чувствах». На сегодняшний день это мои самые ближайшие родственники, с которыми я общаюсь, дружу и надеюсь, что не обижаю их. Стараюсь не обижать.
- Обижать чем?
- Невниманием к ним, наплевательским отношением. Такого нет в моем характере, и не должно быть у людей к их профессии. Профессия – штука серьезная, и за невнимание платит жестоко. Если ей изменяешь, она тебя отторгает.
- Скажи, а какой жанр тебе ближе всего?
- Не люблю комедии, и не потому, что я в них не занят. Нет, я занят. «Мужской род, единственное число» - комедия, хотя мы играем серьезный спектакль. «Смешанные чувства» тоже как бы комедия, а Бакинский театр называет это историей любви. Меня всегда привлекала драматургия с хорошим психологическим подтекстом. Чтобы была судьба у персонажа, ну, хотя бы остов, дальше я сам допишу. Люблю, чтобы автор предлагал нам размотать предлагаемую им историю. Пусть трагическую или драматическую. Мне по душе, когда я встречаюсь с таким материалом, как «Эзоп», «Наедине со всеми», «Живи и помни!». Там есть судьба, там есть про что разговаривать, за что бороться. Это же здорово! Ну, наверное, в классике костюмной тоже надо принимать участие, но мне видится в ней легковесность –ни для дела, ни для души. А вот «Цена» Миллера – это пьеса! Это вечная пьеса. Еду в троллейбусе, подходит женщина: «У моего мужа точно такая же ситуация и такой же брат, как ваш Уолтер. Холодный эгоист!». То есть, я получаю пощечину за своего персонажа! Это ведь здорово!
- А как насчет перевоплощения?
- Обычно считается: если тебя не узнали, это и есть перевоплощение. Ну, как не узнали, если это твой рост, твой голос. Даже если ты заскрипишь, все равно обнаружат по интонациям, по тому, как ты строишь речь. Можно изменить, что угодно, приклеить бороду, надеть три парика, налепить нос – но это все не перевоплощение. Это изменение внешнего облика. А перевоплощение – это как можно дальше уйти от себя, совершая поступки персонажа. Попытаться думать так, как думает он, поскольку не ты, а он совершает в спектакле те или иные поступки. И вот чем это будет глубже, чем точнее ты сумеешь присвоить себе его мысли и действия, тем совершенней будет перевоплощение. «Ну, Юрий Николаевич, вы такой в жизни положительный, зачем вы играете этого противного героя?». Это «Муж и жена снимут комнату». Там мой Борисов особенно противный был, говорил, что жену надо воспитывать. Взять 14-ти лет и воспитывать. И если зритель меня воспринимает так, любя, то момент перевоплощения, будем говорить, произошел. Хотя внешне я ничего в себе не менял. Я просто совершал недостойные поступки и говорил гнусные слова. Не менял, а изменился. Смотреть стал по-другому.
- Так что такая просьба дорогого стоит!
- Конечно. Хотя отрицательных персонажей играть интересней, потому что авторы выписывают их многогранно. Очень занятным был для меня и Карлсон в спектакле начала семидесятых «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Я как-то сразу сдружился с этим забавным персонажем Астрид Линдгрен, мы поняли друг друга, и он своими потрясающими фразами вроде «Я в меру упитанный мужчина в расцвете сил» вдохновлял меня на сценические подвиги. Практически я ничего не делал там голосом, все интонировалось как бы само собой, потому что самое потрясающее было в этой сказке то, что в ней можно было быть раскованным.
- Я знаю, ты много работаешь над произношением.
- Правильно, потому что в драматическом театре единственное выразительное средство - это слово. Оно главный инструмент, которым все доносится до зрителя. Поэтому когда слово непонятно, когда оно произносится всуе, когда артист не знает, про что он говорит, то это уже не искусство. Более того, слово - результат мыслительной деятельности. И уж коль скоро оно возникло, то ты должен его наполнить. Однако в вопросе овладения этим божественным даром не все благополучно. Я говорю это, зная истинное положение дел, потому что сталкивался с преподаванием.
- Вел занятия по сценической речи?
- Да, у нас при нашем театре было три набора в актерскую студию, которую вел Юрий Борисович Померанцев. Он был мастером, а я вел технику речи. И когда я столкнулся с учебным процессом, то убедился, что если у человека нет изначального желания привести в нужную форму свой речевой аппарат, то никакие старания педагога не дадут желаемого результата.
- Но достичь его, наверное, все-таки нелегко?
- Нелегко. Помню, в институте я буквально ненавидел своего педагога по речи, когда ходил к нему на индивидуальные занятия. У меня был мягкий звук «п». И он дал мне скороговорку: «Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп». Я знал, что, придя на это занятие, первые 15 минут буду стоять посреди класса и этой скороговоркой ублажать его. Он просто казнил меня ею. А сейчас я ему благодарен. И к этому, казалось бы, рутинному труду, к этой великой системе, на которой держится классическая театральная школа и которой актер должен неукоснительно следовать всю жизнь, я старался приучить молодых ребят, будущих служителей сцены. Был я потом также нештатным консультантом Института повышения квалификации работников культуры при Министерстве культуры Казахстана, по линии Казахского театрального общества ездил по театрам республики и проводил там семинары.
- Сегодня преподаешь?
- Нет, с этой практикой я покончил, потому что перестал видеть в глазах желание.
- Партнеры твои - много у тебя их?
- Я не сказал бы, что их так много, потому что порой мы встречаемся в спектаклях с одними и теми же актерами – и в одном, и во втором, и в третьем. А с кем-то из труппы вообще могу не встретиться много лет. Правда, сейчас в «Короле Лире» будет занято много актеров, с которыми я никогда на сцене не встречался.
- Как бы знакомство?
- Получается – да. Потому что с кем встречаешься часто, ты уже знаешь их нюансы, достоинства, слабые места. Так же, как они знают мои.
- Вы чувствуете друг друга?
- А как же! И это, конечно, уникальность, когда есть полное понимание. Последнее время с Толей Креженчуковым у меня так в спектакле «Мужской род, единственное число». Это просто удивительно! Он отличный партнер. Ну, а с Ниной Жмеренецкой - само собой. Оно очень приятно, когда партнер, мягко говоря, не игнорирует тебя. Потому что закон театра и наша профессия заключаются в очень простом: ты для партнера, партнер для тебя. А если ты хочешь сам по себе поиграть, то не выйдет ничего.
- Будет театр одного актера?
- Совершенно верно. Ну, и, конечно, как партнер прекрасен Юрий Борисович Померанцев. Я знаю это еще с «Собачьего сердца», где у меня была почти бессловесная роль его ассистента. Да и он до сих пор вспоминает: «Юрий Николаевич, вы помните, как мы с вами пели?». А мы в уголочке там на переднем плане сидели на полу и пели. И он тогда еще мне говорил: «Как вы умеете слушать!». Это был настоящий комплимент, потому что есть среди нас такая странность - порой партнеры словно уши затыкают, когда не они говорят. Сказал свое, а дальше хоть трава не расти. Среагировал невпопад, ну и Бог с ним! Но ведь надо жить спектаклем, даже в молчании соглашаться друг с другом или не соглашаться. Понимать и чувствовать все состояния партнера, угадывать его - это очень помогает ему. А еще приятно с Юрием Борисовичем то, что после спектакля или в антракте уже после первого акта он высказывает: «Ну, вы темпоритм задали!». А я: «Да это я за вами не успевал!». Известно, что даже если два азартных партнера действуют на сцене, то спектакль состоялся. Ведь театральное действо это не что иное, как процесс: один бросил - другой подхватил, другой бросил – первый подхватил. И - пошло!
- Представляю, какое при этом испытывается удовольствие?
- А как же! Зритель приходит получать его от увиденного на сцене, а мы испытываем его от того, как сыграли. В этом смысле Юрий Борисович партнер удивительный. Одиннадцать сезонов, включая нынешний, были для меня праздником, потому что раз или два в месяц я встречался с ним в миллеровской «Цене». Хорошая драматургия, блистательно поставленный Рубеном Суреновичем спектакль, отличное оформление, великолепное партнерство. Все сошлось. Да и вообще Юрий Борисович уникальное явление. Он преданный театру человек, живущий им и не могущий жить без него. Сейчас, пока в нашем театре ремонт, мы работаем на чужих площадках. И я решил недавно посмотреть, как принимает нас зритель в непривычных условиях. Был спектакль «Таланты и поклонники» Островского, который идет у нас давно, но я видел его лишь на сдаче. Юрий Борисович постановщик этого спектакля, и он же исполнитель одной из главных ролей – Нарокова.. Ну, это, я вам скажу, атомный реактор! Из него исходит такая энергия, что за ним тянутся все. Оно и хорошо, потому что в любом спектакле должен быть лидер, на которого равняются другие. Но удивляешься – откуда она, эта энергия? Удивляешься не потому, что ему 85, но и потому, что 85. Обрати внимание, я могу сказать: «Слушай, ему двадцать шесть лет», и это будет означать, что это старый человек. А я говорю «восемьдесят пять» так, что он еще совсем молодой человек. Молодой человек! Он никогда не придет на спектакль, вздыхая, что ему тяжело работать. Он не скучать приходит в театр, он приходит в него творить, и это большой, большой для всех нас пример.
- А, по-моему, вы все больны театром, все его фанаты!
- Это действительно так, потому что театр обладает свойством поглощать тебя целиком. Общение с ним не прекращается, даже если ты занят чем-то таким, что никакого отношения к нему не имеет. И вот представляешь - отыграл спектакль или провел несколько часов на репетиции, возвращаешься домой уставший. Едешь и еще, еще раз перебираешь в голове что-то из того, что произошло на сцене, вносишь какие-то коррективы, чему-то удивляешься. Потому что, какую пьесу ни возьми, в любом материале всегда что-то на донышке лежит. То, чего ты еще не достал, чего не прочитал. Или, готовясь к очередному спектаклю, берешь роль – пробежаться, посмотреть. Перебираешь страницы, и вдруг: «О, Господи, так ведь тут же поворотик можно сделать вот такой!». Говоришь об этом партнеру, а он: «Ух ты, и как такое в голову пришло!». «Так это же, оказывается, здесь в тексте все написано. Просто я не замечал». И ежели он «поймал» все мною сказанное и будет отвечать на все мои посылы, то роль наполнится новой тканью, свежими соками. То есть, эмоциональный всплеск должен быть постоянно. Извини меня за столь высокие слова, но я же художник. Я автор роли. Да, партитура ее, конечно, выстроена, но какие будут нюансы, чем я их наполню? Бывает, вечером спектакль, а ты не в настроении. Но стоит сесть к гримировальному столу, как все тут же меняется, а уж когда пошли звонки, - я там, я в спектакле!
- В одной из радиопередач ты говорил, что, будучи школьником, занимался в Уральской планерной школе, после чего поступил в летное училище и даже успел полетать на учебном ЯК-18. Однако по здоровью стать летчиком не получилось. Потом была работа в депо, на авторемонтном заводе. То есть, предполагался вроде бы иной жизненный путь. Но однажды все повернулось в сторону театра, и вот уже почти сорок лет ты на сцене. Случалось ли тебе пожалеть, что ты пришел в эту профессию?
- Никогда, ни единого раза, хотя мог бы, наверное, достичь чего-то и в другом каком-то деле. Профессия актера – ключ к познанию человека во всей его сложности и глубине. Ничто другое не дает возможности пропустить через себя такое множество судеб, характеров, темпераментов, миропредставлений. За одно лишь это стоит любить свою профессию, и я счастлив, что судьба привела меня именно к ней.
Людмила ВАРШАВСКАЯ-ЕНИСЕЕВА
Юрий Капустин, актер театра и кино. Заслуженный артист РК, лауреат Государственной премии РК. Выпускник Саратовского театрального училища и Киевского Государственного института театра и кино. В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова с 1970 года. Здесь, на этой сцене, Юрий Николаевич сыграл около ста ролей, в том числе в спектаклях «Две зимы и три лета», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Живи и помни!», «Последний посетитель», «Эта странная миссис Сэвидж», «Эзоп», «Пока она умирала», «Мужской род, единственное число», «Иванов», «Цена», «Смешанные чувства». Его режиссерские работы - «Двое на качелях», «Наедине со всеми», «Двойная игра, или Условия диктует леди», а также «Маскарад» в театре «Бенефис».
ЮРИЙ КАПУСТИН: ГЛАВНОЕ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ВПЕРЕДИ
Закончилась последняя застольная репетиция шекспировского «Короля Лира» - спектакля, которым коллектив Театра им. М. Ю. Лермонтова вместе с двумя другими постановками решил ознаменовать свое 75-летие. Все, что требуется на этом этапе работы над пьесой, выяснено и обговорено, дальше действие должно быть перенесено на площадку. Но в театре идет первый за все 40 лет существования его здания капитальный и, как у нас полагается, ну-у-у, очень затяжной ремонт. Репетиции на энное время откладываются. Они возобновятся, как только рабочие пустят актеров на сцену. Пустить-то, они, безусловно, пустят, однажды это случится, но когда? Думаю, гадать мы не будем. Мы воспользуемся моментом, чтобы поговорить с исполнителем заглавной роли будущего спектакля - заслуженным артистом республики Юрием Капустиным об этой и других его работах, о театре как таковом и жизни в нем.
- Король Лир,– говорит Юрий Николаевич, - это самый главный на сегодняшний день персонаж в моей жизни, хотя я никогда не был обделен репертуаром и ролями, причем, очень большими и сложными. Конечно,это щедрый подарок судьбы, и огромное спасибо постановщику спектакля, художественному руководителю нашего театра Рубену Суреновичу Андриасяну за то, что он остановил свой выбор на мне, хотя я не совсем понимаю, почему это случилось. Я всегда мечтал о Ричарде Третьем и никогда в мыслях даже не держал короля Лира. Но Рубен Суренович привел свои аргументы, и я с ним не мог не согласиться.
Роль, безусловно, грандиозная, а Шекспир, мне кажется, автор так до конца и не познанный. Со своей невероятной глубиной, невероятными загадками и очень-очень хитрый. Самая большая хитрость его заключается в том, что он дает огромное поле деятельности и режиссерам, и артистам: «Ну, давайте, ребята, давайте! Ну-ка, попытайтесь покопать, что вы из этого извлечете? Как вы к этому подойдете?»
- То, что Рубен Суренович на период капитального ремонта решился запустить такую громадину, можно считать, наверное, поступком?
- Безусловно, хотя в этом был и свой практический смысл. Образовывался довольно большой запас времени, что очень важно для разгона. Можно репетировать, можно остановиться, поосмыслить пьесу, подумать еще, и опять… Вот сейчас, после застольного периода, у меня большая пауза, потому что у нас нет площадки для репетиций. Но ведь я живу в мире Шекспира. Я читаю о нем, его времени, его жизни и творчестве. В основном это историко-исследовательская литература, где для меня много интересного и полезного. Осваивая все это, наконец-то понимаешь, что такое этот самый «Король Лир». Материал, конечно, неоднозначный. И хотя историки считают, например, что и первая сцена пьесы, где идет разделение королевства, и последняя, когда все объединяются в борьбе за государство, - наивные и искусственные, но когда сопоставляешь исторические источники с текстом, то удивляешься тому, насколько эти сцены уместны и органичны.
- «Король Лир», насколько известно, сейчас очень востребован.
- Да, он идет в Москве на трех площадках, в Петербурге, Кончаловский поставил его в Польше и хочет сделать то же самое в Москве. Чем это объяснить? А очень просто. Пьеса была написана в период и о периоде, когда в Англии наступал капитализм. Когда трудно стало в стране с экономикой и социальными проблемами. Когда разделение общества пошло на богатых и нищих. Не на богатых и бедных, а именно нищих. И вдруг в голове этого руководителя, которого зовут Лир, возникает идея, что спасти это громадное государство можно, лишь разделив его. Разделив трём дочерям – на три части. Разделить, не дав кому-то выйти далеко вперед, а кому-то погибнуть. Так проще будет выжить. Но, приняв это решение, Лир совершает политическую ошибку. Он не учитывает человеческого фактора. Не берет во внимание характеров тех, кому отдает эти части государства. Так фактически состоялась одна из трагедий разочарования в близких, которые предали Лира. Ведь это очень страшно, когда человек наталкивается на предательство. И вот, разбираясь во всем этом, я, в конечном счете, задался вопросом: так где же, в каком месте король Лир был более безумен - в начале пьесы, когда он делил государство, или в той знаменитой сцене бури, когда он уже непонятно что из себя представляет? Когда со всеми разговаривает – и с громом, и с дождем, и с ветром? Задался вопросом и пришел к выводу, что самое большое безумство посетило его в первой картине, когда он сказал, что все отдает дочерям.
- Но это та самая сторона вопроса, из которой вытекают две другие темы. Одна - взаимоотношения отцов и детей - истории Лира и его дочерей, а также Глостера с его сыновьями. И вторая – власть и человек.
- Не то, чтобы вытекают. Я бы сказал, что тесно переплетены. И именно в этом тандеме они являют пищу для авторских размышлений о том, как человек меняется, находясь долгое время у власти, и что делает с ним эта власть. В какой-то момент обладающий ею начинает думать, что он - первый, что он Бог. Это жесточайшее заблуждение, и тот, кто возомнил себя Богом на земле, сам себя уничтожает. Да, это так, говорит Шекспир, подвергая Лира этому страшному испытанию. Но он же заставляет его пройти через все душевные муки для того, чтобы властитель в нем переродился в человека. Все эти линии, их разработки, внутренние связи и штрихи были обговорены за столом, теперь дело за площадкой.
- А до этого спектакля с Шекспиром тебе приходилось встречаться?
- Приходилось. Первый раз в Саратовском театральном училище. Я был студентом третьего курса , когда выпускники наши ставили свой дипломный спектакль «Двенадцатая ночь». У них не хватало парней, и меня пригласили на роль капитана, друга Виолы. То был небольшой эпизод на просцениуме, но он мне запомнился, потому что были очень хорошие костюмы. Потом после окончания института я работал в драмтеатре Ставрополя, где в репертуаре был «Король Лир», и я исполнял роль Освальда - дворецкого Гонерильи. В 1974 году уже на лермонтовской сцене мне доверили сыграть Шута в шекспировской комедии «Все хорошо, что хорошо кончается». У нас там была хорошая сцена с Померанцевым в роли Пароля. В ней сначала он отчитывал меня, а потом я брал верх над ним и буквально уничтожал его остротами и издевками. Видел я также самое последнее представление «Короля Лира» с Диордиевым и Померанцевым после карагандинских гастролей театра. У Юрия Борисовича там была колоссальная работа. Он играл Шута, но то был иной, чем у меня, глубоко человеческий и по-своему трагический образ. А Евгений Яковлевич, он же дядя Женя, в Лире был традиционным - такой большой, с лохматой бородой, очень импозантный и трогательный, особенно в последних сценах.
- Твой Лир будет другой?
- Хочу верить, что так. Ну, во-первых, никакой бороды. В этом меня убедил Михоэлс. Он же первый отказался от нее .У Михаила Козакова, который сейчас играет его в театре Моссовета, подход к внешнему облику традиционный, у Додина тоже. Но у нас свое, отличное от всего, что было, направление. Никакого бытовизма и свойственных ему подробностей. Оформление, что предлагает художник Эрнст Гейдебрехт, и костюмы Людмилы Кужель не привязываются к тому или иному времени. Это будет такой несколько странный военизированный стиль – омоновские ботинки, черные брюки и рубашки, латы. Нечто близкое к кинофантастике.
- То есть, не стилизация, а переосмысление на другое время, на другую эпоху?
- Нет, скорее, что-то вневременное.
- К королю Лиру ты подошел с огромным багажом в сто с лишним названий сыгранных тобой ролей. Какие из них тебе дороги особенно?
- Роли для актера все равно, что дети, а детей мы любим всех, даже если что-то там не получилось. И хотя я не был избалован репертуаром в массе своей, но на сегодняшний день в моем активе такие прекрасные персонажи, как архиепископ Парижа Шаррон в «Мольере» Булгакова, Игорь - «Пока она умирала» Птушкиной, Уолтер Франц в миллеровской «Цене», Альбер Ламар – «Мужской род, единственное число» Брикера и Ласега и другие. Есть среди них роли, которых многие из моих коллег уже не сыграют, потому что то были пьесы того, советского времени, и они уже ушли. К ним относится, например, спектакль «Живи и помни!» Валентина Распутина, где у меня была роль Гуськова. Действие его происходит в годы Вели¬кой Отечественной войны. Мой герой – Андрей Гуськов ехал, если помнишь, из гос¬питаля на фронт, но пробрал¬ся в родные места и явился к жене Настёне. Та спрятала его во времянке недалеко от род¬ного дома, и стал он с той поры дезертиром.
- Это был очень хороший спектакль, и роль твоя была очень сложной с точки зрения психологии.
- Сложной чрезвычайно, хотя работу над ней я вспоминаю с наслаждением. Инициатива самой постановки исходила от меня. Я тогда исполнял обязанности главного режиссера нашего театра, увидел анонс инсценировки МХАТ, пришел к директору и говорю, вот поставить бы это у нас! Он: «Нет проблем, сейчас позвоним в Москву!». Набрал репертуарный отдел – да, есть такая инсценировка! Через неделю пьеса пришла, но я не успел реализовать ее сам. К тому времени в театр назначили главным режиссером Валерия Иванова, затем приехал очередной постановщик Юрий Костенко, и Иванов велел делать ему этот спектакль, где я получил желанную мне роль.
На репетициях, помню, работал до изнеможения. Нет, не то, чтобы я себя изматывал. Просто по-другому было невозможно – уж больно серьезным был материал, где ни на йоту нельзя было отойти от правды чувств. Мой Гуськов стал изменником, исключив тем самым себя из списка живых. Он сломался, а время и полная безвыходность положения продолжали деформировать его дальше. Загнав себя в вечное заточение, он жил в постоянной настороженности, осознании тяжести непростительного поступка, боязни, что его обнаружат. В терзаниях собственной совести и поисках доводов для оправдания содеянного. Ничто не облегчало его вины ни перед миром, ни перед Богом, ни перед самим собой.
- То есть, вся безысходность на одного персонажа? И тебе, конечно, пришлось принять этот груз, чтобы пропустить через себя!
- А как же, он ведь человек. Да, проявивший слабость, да, взваливший на себя тягчайшую вину, но не утративший совести. В нем жила мяту¬щаяся, исстрадавшаяся душа. Эмоциональность по внутренней линии шла в десятикратной степени. Однако сверхсложностей никаких. Просто надо было впитать в себя тот способ существования, который предлагал нам режиссер. Это были так называемые челночные мизансцены. Мы ведь привыкли как? Друг перед дружкой встали и разговариваем. А тут вращение круга сцены для параллельного показа происходящего в доме Гуськовых и в зимовье Анд¬рея. Была еще и очень значимая по ходу пьесы ситуация в связи с предстоящим появлением младенца у Андрея с его Настёной, и драматизм ее надо было в этом вечном движении как-то представить. Словом, напряжение огромное, внутренних сил требовалось много, и их надо было нарабатывать, как спортсмену.
С жизнью села военных лет и первой послевоенной поры был связан также ранее поставленный Сулимовым спектакль «Две зимы и три лета» Федора Абрамова. Тема его укладывалась во всем знакомое тогда «Все для фронта! Все во имя Победы!», и я исполнял там роль вчерашнего пацана Михаила Пряслина, оставшегося в деревне за мужчину. По-крестьянски обстоятельный, безотказный в работе (чего только ни смастерили, кому только ни помогли его руки!) прямой и категоричный в своих суждениях, он привлекает внимание красавицы-вдовы Варвары. Ее сочно и озорно играла Алена Скрипко. Чувство Варвары отозвалось в сердце моего Михаила, и любовь наша – большая, на всю оставшуюся жизнь! - стала одной из основных линий спектакля. Там же, в этом спектакле я со временем сыграл едва ли не все мужские роли. На председателя колхоза во время гастролей нашего театра в Москве ввелся буквально за два часа. Исполнитель этой роли заболел, и пока шло первое действие, пока меня одевали и гримировали, я вложил в себя полагающийся текст.
- Из знаковых фигур ушедшего в историю советского времени был, если я не ошибаюсь, твой Казмин в «Последнем посетителе».
- Да, по пьесе Владлена Дозорцева. Рубен Суренович ставил ее в 1986 году, и я, вернее, мой герой был в нем не просто заместителем министра здравоохранения, а без пяти минут министром. Это к нему на вечерний прием по личным вопросам пришел тот самый Посетитель – его прекрасно играл Лева Темкин - и предложил моему Казмину оставить свой пост, потому что он не имел морального права занимать его. Пришедший человек напомнил, что мой герой – высочайшей квалификации хирург и отличный организатор в области здравоохранения, попал в свое время на должность замминистра, поступившись собственными принципами. Посетитель был прав – мой Казмин, кстати, во имя самой же медицины, действительно пошел на такую сделку с совестью, что ему, по природе своей человеку порядочному, не давало спокойно жить. Чувствуя себя виноватым, он давно понял, что не прав, и казнился этим. Так что появление Посетителя, его крепкая, доказательная логика в обвинении были равносильны встрече с собственной совестью. Роль была психологически сложной, социально значимой и злободневной. И работать над ней приходилось, конечно, интенсивно. Всего мужских ролей там было три – моя, Левы Темкина и Гены Балаева, который играл моего помощника Ермакова. Команда подобралась веселая, остроумия у ребят было не занимать, репетировали с шуткой-прибауткой, и это было удивительно.
- Так вы же там все были хохмачи!
- Это Лева с Геной. А я - я просто при них. И представляешь - получилось! Получилось. В тот год у нас были гастроли в Москве, так там на обсуждении в Министерстве культуры закрепленный за нами критик, сравнивая наш спектакль с постановками этой же пьесы в других театрах страны, сказал, что у нас по уровню проникновения в тему, исполнительскому мастерству он оказался намного выше. Работа была, конечно, крепкая, и мне очень жаль, что в этом составе мы больше никогда не встретились. Не пришлось.
Значимой для себя считаю я два года назад состоявшуюся мою премьеру - спектакль «Смешанные чувства» Баэра в постановке Владимира Молчанова. Это очень симпатичная пьеса о двух оставшихся в одиночестве людей. Ему, Герману Льюису, - 65, ей, Кристине Мильман, - 63. У него уже три года, как умерла жена, она год, как потеряла мужа. У нее дочери, с которыми она не может найти общего языка, у него – сын, живущий своей жизнью. И вот они, два давно знакомых пожилых человека пытаются убедить себя и друг друга, что вместе им будет лучше. Моя партнерша по спектаклю - Мила Тимошенко, и мы с удовольствием раз-два в месяц играем его. Хорошая, счастливая для нас работа, потому что в ней есть тема и есть повод поговорить о серьезном.
- Тема одиночества во все времена востребуема, и очень хорошо, что нашелся замечательный материал для раскрытия ее. Ну, а если говорить о тематической направленности, то нельзя не вспомнить недавний спектакль вашего театра «Эзоп» («Лиса и виноград»). Спектакль, во главу которого поставлено человеческое достоинство и стремление к свободе. И что бы в ней ни происходило, сколь неожиданно ни поворачивался бы очередной виток событий, все сходилось на одном: Эзопу нужна свобода и только свобода, даже если цена этому - жизнь! Высокая и красивая драматургия. Судя по реакции публики, она находила отклик у каждого зрителя, зал в целом воспринимал ее с трепетом.
- Действительно, это был спектакль удивительной наполненности. Древняя Греция, дом богатого, почитаемого горожанами философа, блистательные творения баснописца Эзопа, ораторское красноречие моего Ксанфа, успех его в публичных выступлениях, пусть даже за счет использования эзоповских сочинений, но все-таки успех, совершенно невероятные ситуации любовного порядка. Все это давало мне, актеру, богатую пищу для размышлений и широкие сценические возможности. Мой Ксанф интересен и неоднозначен своей противоречивостью. Чего только ни намешала в нем природа! Здесь непомерное тщеславие и умение по достоинству оценить необычайную одаренность ничтожного раба, мелочность и великодушие, сластолюбие и страх одиночества. Ксанф в «Эзопе» – подарок судьбы, за который я так же, как режиссер-постановщик спектакля Рубен Суренович Андриасян, художник Владимир Кужель, актеры Ирина Лебсак и Сергей Погосян, получил еще и Государственную премию Республики Казахстан 2002 года.
- Госпремия – это высочайшее признание, и я думаю, что ты заслужил его не за одну только роль. У тебя ведь, кроме игровых, были спектакли, где ты приложил руку еще и как режиссер.
- Несколько спектаклей, и первый из них - «Двое на качелях» Гибсона, который мы с Ниной Жмеренецкой с благословения Мара Владимировича Сулимова начали сами, потом показали ему сделанное. Посмотрев прогон, он сказал: «Менять ничего не буду, лишь изнутри подтолкну вас». И через две недели мы выпустили спектакль, который играли с Ниной, начиная с 1973 года, 13 лет. Срок для сцены немалый, и долгожительство такое вполне объяснимо. Есть пьесы, где воспеваются вечные темы, и они, эти пьесы, нужны нам. «Двое на качелях» относится к ним. Она об отношениях мужчины и женщины, взаимных привязанностях и антипатиях.
Должен сказать, что в самостоятельных своих постановках я много взаимодействовал с Ниной Жмеренецкой. Она настоящий трудоголик и всегда добивается того, что определила себе задачей. Нина всякий раз выступает инициатором наших начинаний, находя для этого пьесы. Следующей совместной работой спустя десять лет была пьеса Гельмана на двоих, и называлась она «Наедине со всеми». Там было очень удачное оформление, выполненное большим мастером театрального дела, ныне, к сожалению, покойным Игорем Борисовичем Бальхозиным. Оно было локальным, как-то по-особому проникновенным и удивительно сошлось с тем, что переживали наши герои. И был еще такой забавный момент. Когда мы взяли в работу эту пьесу, директор театра сказал: «Ставьте, но только на сдаче ты будешь разговаривать с министерством сам». Тогда ведь спектакли принимала комиссия Минкультуры, и фактически ни один из них не одобрялся с первого раза. А нас… Я прыгал в фойе театра до потолка, когда все обошлось без единого замечания. Буквально сходу. И это было здорово. Потом, когда МХАТ привез сюда на гастроли спектакль по этой же пьесе с Ефремовым и Лавровой_в главных ролях, то специалисты сказали, что наш вариант интереснее. Было очень приятно.
В промежутке между этими двумя работами я поставил «Снега метельные» по пьесе казахстанского автора Ивана Щеголихина. Спектакль был посвящен 25-летию целинной эпопеи. И последняя моя режиссерская работа – «Двойная игра, или Условия диктует леди» Элиса и Риза, которая, как и первые две, сложилась без особых трудностей.
- Тоже на двух актеров.
- Тоже. Я там играл безработного бродягу Дункана Макфи, который как две капли воды похож на погибшего мужа Филиппы Джеймс. Обстоятельство это более чем на руку овдовевшей леди, потому что ей, оказывается, полагается по за¬вещанию одного из родственников миллион франков после того, как она вживе представит адвокатам своего мужа. Если можно наследство получить, то почему бы это не сделать? Тем более, что двойник благоверного есть, и его нужно лишь привести в соответствующий вид, обучить манерам, поведению аристократа и, что немаловажно, почерку мужа. И тут я хотел бы заострить внимание на том, что, обращаясь время от времени к пьесам, где идет речь об отношениях между представителями сильной и слабой половин человечества, я вижу разницу в расстановке их сил при решении своих проблем. И если в «Маскараде» Лермонтова, который я ставил в театре «Бенефис» и играл там Арбенина, это обозначалось как «Мужчина и женщина», то в «Двойной игре» она звучала как «Женщина и мужчина».
- О, это что-то новое в постановке вопроса!
- Не то, чтобы новое, просто другой ракурс. В «Двойной игре» для меня была важна прежде всего леди, и я все выстраивал на нее. Жена моя, Ирина Семеновна говорила мне: «Юра, что такое? Ты постоянно вполоборота к зрителю. Я больше вижу твою спину». «Так это правильно, - отвечал я, - для меня ведь важно, чтобы крупным планом была Филиппа. Когда мне надо будет показать своего Дункана Макфи, я развернусь». То есть, главным было хорошо высветить героиню Нины, дать ей с достоинством пройти по винтовой лестнице, продумать все нюансы и детали аферы. Мы постарались это сделать, и получился хороший и, как мне кажется, интеллигентный спектакль. А в «Маскараде» я делал упор на Арбенина.
- Вообще постановки на двоих воспринимаются, как правило, на одном дыхании. В чем особенность работы над ними?
- В общности душ, понимании друг друга, умении договориться, прийти к единому знаменателю. Я же говорю, что больших сложностей, непреодолимых моментов практически не было. Мы работали с Ниной в удовольствие, хотя могло бы быть и по-другому. Ведь когда из двух артистов один берется за постановку, то другому тоже хочется порежиссировать. Но тут все шло по раз и навсегда усвоенному нами правилу: в любом спектакле есть режиссер со своей концепцией, и хочешь того или нет, ты должен следовать этой концепции. Должен влюбить себя в нее. Если тебе что-то кажется не так, ты это «кажется» должен оставить при себе. Тут телегу везут двое. Один никогда не справится. И уж коль вы в нее впряглись, так помогайте друг другу, чтобы зритель понимал и воспринимал вас. Были, конечно, как в любой работе, и неровности. Кто-то из нас с чем-то не соглашался, кто-то отстаивал свое, но, в конце концов, нет такого репетиционного процесса, чтобы он был мягким, гладким, без сучка и задоринки. В целом от этого творческого содружества у меня остались приятные воспоминания.
- За многие годы работы актерам приходится сталкиваться с разными сценическими персонажами. Если не всякий раз, то почти всякий это terra incognita, которую, как Робинзону, нужно обжить.
- Естественно, сколько ролей, столько характеров, столько профессий. Я уж не говорю о страстях и увлечениях, жизненных принципах и поставленных перед собой целях. Во все это надо вникнуть, все освоить. Готовясь к исторической пьесе, не грех просмотреть нужный иконографический материал, произведения художников, почитать специальную литературу. К спектаклю о физиках просветиться по части квантов и теории относительности. А когда понадобится представить кого-то из великих, то познакомиться нужно не только с биографией героя, но и его трудами, окружением, дневниками и письмами, воспоминаниями и высказываниями.
- Выходит, каждая роль – это самообразование?
- А как же! Если нет должного наполнения, то мы просто изрекаем словеса, сотрясая воздух и образуя в спектаклях прискорбные пустоты. Важно бывает все, вплоть до самых мелочей. Взять, к примеру, того же «Последнего посетителя». Там в спектакле я изначально врач-хирург. Мое направление – торакальная хирургия. Далекий от медицины человек, я, конечно, никакого понятия о такой области в ней не имел. Полез в словари. Оказалось, «торакс» – это грудная клетка. То есть, мой Казмин был ас по операциям на грудной клетке. Если бы я в этом спектакле не участвовал, то, наверное, не узнал бы этого. А узнать было необходимо хотя бы потому, что там по ходу действия ко мне приходит посетительница как раз насчет такой операции, которую сделали ее мужу, и она была неудачной. То есть, это один из главных вопросов пьесы, и я, артист, чтобы сыграть как надо, должен был в нем разбираться. Естественно, я начал интересоваться, копаться в энциклопедии, справочниках, специальной литературе, газетах.
Или вот - в «Смешанных чувствах» я торговец коврами, и мне надо прямо на сцене эти ковры скатывать. Казалось бы, что сложного? Но как именно? Как это делают профессионалы? Поехали мы с женой в ковровый магазин – мол, продавцы-то уж точно знают, как обходиться с этим товаром. Зашли, пронаблюдали, поспрашивали. Жена говорит: «Слушай, так у них все, как у тебя. Фьюить – и порядок!». А я действительно добивался того, чтоб ковер скатывался ловко и играючи.
- Движения, видать, интуиция подсказала?
- Может, интуиция, а, может, и какой торговец во мне сидит! Но не все, скажу тебе, дается так легко. Трудности могут возникнуть в самых, казалось бы, элементарных моментах. Например, эпизод с едой. В спектакле «Живи и помни!» мой Андрей укрывался от глаз людских в бане. Туда жена ему приносила кусок сала с хлебом, и я этот кусок буквально рвал и ел. Ел так, что кто-то говорил мне: «Невозможно в зале сидеть, так хочется этого сала!». То есть, надо было показать, что персонаж голоден, но сделать это вкусно. Все в меру откровенно и в меру эстетично, чтобы зрителю в зале захотелось есть, а не оттолкнуло от тебя. У меня это, видать, получилось. Но на сцене одновременно есть и разговаривать, оказывается, очень сложно. Подумаешь, скажет кто-то, тоже мне проблема – в разговоре съесть кусок хлеба! Бери горбушку да говори сколько хочешь! А ведь многие не могут. Им либо еда, либо беседа. Потому как от волнения, от необходимости все произносить четко и доходчиво во рту все застревает, и ничего не скажешь. Тут хочешь-не хочешь, а нужна натренированность, нужно мастерство.
- Скажи, а из своей биографии ты что-то берешь для ролей?
- Видишь ли, материалом для них является сам артист с его весом, ростом, цветом глаз, с его мироощущением и биографией. И хотим мы того или нет, нам это помогает. Так что, естественно, мой жизненный опыт, моя биография, все события, что происходят со мной, в той или иной мере влияют на содержание того, что я делаю на сцене. Это, так сказать, мой изначальный вклад в будущего героя. А потом идет наполнение извне. Наша профессия, она ведь в чем заключается? В том, чтобы присвоить чужие слова, чужие мысли и поступки. Присвоить и воспроизвести. Но сделать это со своим отношением, согласно собственной позиции. Иной человек скажет – и зачем вам это нужно? Ведь вы постоянно дергаете свою душу и нервы. К чему себя так испытывать? Но ведь если не дергать, не испытывать, если все делать с холодным носом, то ничего не получится и ничего не родится. Поэтому, получив роль, я ищу в ней те моменты, которые совпадают с моими знаниями и ощущениями. Тогда моя душевная боль материализована, и идет в зал уже насыщенной.
- Словом, сложная у вас профессия, мудреная!
- Ну, как тебе сказать? Мне кажется, что весь фокус ее заключается в шаманстве, и начинается оно, как только ты переступаешь порог сцены. Переступаешь, оставляя за кулисами бытовые дела свои, привлекая органику и способность творить на сцене. И, конечно, лукавят артисты, говоря: «Волнение! Да какое волнение! Я уже двести раз этот спектакль играл». Ничего подобного! Все мы знаем про неповоротливые руки и одеревеневшие ноги при выходе на публику. Голову повернуть – голос странный и чужой. Но секунда-другая, и включается та самая органика, учащается биение пульса, начинает крутить кровь энергометр, зажигая азарт, вызывая к жизни кураж. Импульс этот тут же передается зрителю, зал получает должный заряд, и пошел спектакль, пошло представление!
- Но подготавливает это шаманство репетиционный процесс.
- Репетиции - это повтор, повтор, тренировка. И чем больше я затрачиваюсь на них, тем легче мне в спектакле. Я на репетиции выкладываюсь. В быту не испытываю таких, как там, нагрузок. Помню, как во время работы над спектаклем «Живи и помни!» Костенко смеялся. Отыграв сцену, я упал в изнеможении на спину. Он спрашивает: «Ну, что?». Я говорю: «Сейчас. Подожди, отдышусь, и еще раз повторим». Он: «Да нет, хватит, отдыхай!».
- Что, все шло на такую отдачу?
- Да. И золотые слова сказаны были в свое время Сулимовым, когда он еще возглавлял наш театр. «Репетировать надо весело», - говорил он. Мар Владимирович был очень требовательным на репетициях, но всегда точно чуял, когда артисты начинают замыливаться. Он вдруг делал паузу, рассказывал пару анекдотов, артисты хохотали, и сцена шла дальше легче. Все правильно. Не испытывая азарта в поисках нужного состояния, истины не достигнешь. Сколько раз бывало – головой понимаешь, что надо делать, как двигаться, а физически оно не выходит. Сама реализация бывает сложной. И когда в репетиции ты пытаешься добраться до дна, то спектакль получается. Но для этого нужно, чтобы организм работал полностью. И шутка-прибаутка – лучшее средство от усталости.
- Но какие-то репетиции идут, наверное, с проскоком. Если тот или иной кусок хорошо отработан, его вряд ли надо вновь подробно проходить.
- Да, у артистов есть такая тенденция – поработать технически. И если режиссер порой предлагает что-то пробросить, я это не приветствую. Позволение самому себе сработать в пробросе раз повторится еще и еще, войдет в привычку и, наконец, превратится в характер. Потом мы начнем делать в этом пробросе все. Вот порой мы и смотрим спектакль – вроде все есть, а чего-то не хватает. Такое случается со многими, и с большими артистами в том числе. Помню, в середине восьмидесятых годов минувшего века приехал в Алма-Ату мой тесть, и я повел его на «Тифлисские свадьбы». Князя Пантиашвили играл Диордиев. После спектакля едем домой, тесть говорит: «Слушай, видать, сегодня ему не очень хотелось играть, но какой артист!». Действительно, у Евгения Яковлевича были такие моменты, когда он все делал через губу. Но от своей индивидуальности далеко не уйдешь, и потому, ежели ему выпадала честь выйти на сцену, то он все равно… Ну, бывает недомогание какое-то. Но уж когда у него все сходилось, это было потрясающе. А тесть мой в этом отношении человек был не посторонний – он одно время учился у Мейерхольда и работал в театре у Охлопкова. Так что толк в нашем деле он понимал. Помню, я принес ему диплом с отличием, и он сказал: «Юрка, плевал я на ваши Красные книжки! Ты выходи на планшет, показывай, что можешь, и я скажу – артист ты или нет. Вот и все».
- И как, признал он тебя на площадке?
- Признал! Ну, а что касается сложностей, то они, естественно, имели место. Была, например, у меня такая странная роль в «Факультете ненужных вещей» по Юрию Домбровскому – роль Сталина. Три эпизода с ним. Репетировать было нелегко хотя бы потому, что фигура эта узнаваемая, историческая. К тому же, у каждого свой Сталин. И нам с Рубеном Суреновичем Андриасяном, который ставил спектакль, надо было что-то такое придумать, чтобы приблизить вождя к зрителю. В первой сцене, когда ему докладывают о сидящем в лагере известном поэте (его играл Померанцев) и просят освободить того, я предложил простой ход – у Сталина радикулит! И вот он как обычный рядовой человек ходил с радикулитом по комнате и разговаривал про этого поэта. Потом кто-то после сдачи сказал: «А ведь сработало! Сколько я на сцене смотрел, Сталин ни у кого не получается, а у тебя получилось». Получилось. И что ты думаешь? Сцену эту было велено вырезать! Дело в том, что на премьеру к нам пришел только что заступивший на место Кунаева Колбин. Он принял у нас эту работу. А вместе с ним, конечно же, присутствовали и «черные пиджаки». На следующий день Рубен Суренович приглашает меня и говорит: «Знаешь, спектакль длинный, очень длинный. Придется пожертвовать твоей сценой». Оказывается, так решили «товарищи», и причиной тому было вот что. Сыграв дачную сцену, которая заканчивалась моими словами, я уходил. А, уходя, поворачивался, и произносил еще два слова. И все. Но получилось так, что сцену-то я закончил, а когда уходил окончательно, раздались и аплодисменты. Как, Сталину аплодисменты? Да как можно такое допустить? И вымарали тогда эту сцену. Вот это один из прецедентов того, советского времени, когда в том или ином решении фокусировались идеология, политика, непонимание театра и психологии зрителя, отсутствие вкуса и страх перед вышестоящим начальством.
- Репетиции, наверное, самое главное в твоей работе?
- Весь парадокс в том, что я не люблю репетировать. Вообще для актера самое первое и основное – спектакль. А репетиция, где мы работаем во имя будущего спектакля, процесс длинный, специфический, и о сложностях его даже не расскажешь. Спрашивая об этом, зрители в первую очередь интересуются, как нам, артистам, удается выучивать так много текста? Текст я не учу никогда. Артисту учить его и не надо. Ну, разве когда он срочно вводится на ту или иную роль. Ведь что такое слово? Это результат мыследеятельности. Значит, я должен провести себя по всем ситуациям своего героя - именно по ситуациям, чтобы у меня возникла потребность говорить эти слова. Когда это случится, они сами уложатся, и не обязательно во время репетиции. Произойдет это непременно, надо только терпеливо ждать. Рубен Суренович, скажем, никогда не торопит меня в репетициях. А я роль свою переписываю на маленькие листочки и ношу их с собой, хотя мало в них заглядываю. Они укладываются у меня в ладони. Но как только я начинаю понимать, что уже мешаю партнерам своими шпаргалками, то тут же оставляю их в покое. «Ой, - удивляется Рубен Суренович, - а ты что, сегодня без текста, что ли?». А я действительно его отложил, потому что как только приходит понимание того, что именно происходит в пьесе, текст роли уже внутри меня. Потом, в ходе спектакля, его надо лишь достать.
- Говорят, роли любят, чтобы им отдавали должное внимание.
- Верно. Вот сейчас у меня в активе Альбер Ламар в спектакле «Мужской род, единственное число», Уолтер Франс в «Цена», Игорь в постановке «Пока она умирала» и Герман Льюис в «Смешанных чувствах». На сегодняшний день это мои самые ближайшие родственники, с которыми я общаюсь, дружу и надеюсь, что не обижаю их. Стараюсь не обижать.
- Обижать чем?
- Невниманием к ним, наплевательским отношением. Такого нет в моем характере, и не должно быть у людей к их профессии. Профессия – штука серьезная, и за невнимание платит жестоко. Если ей изменяешь, она тебя отторгает.
- Скажи, а какой жанр тебе ближе всего?
- Не люблю комедии, и не потому, что я в них не занят. Нет, я занят. «Мужской род, единственное число» - комедия, хотя мы играем серьезный спектакль. «Смешанные чувства» тоже как бы комедия, а Бакинский театр называет это историей любви. Меня всегда привлекала драматургия с хорошим психологическим подтекстом. Чтобы была судьба у персонажа, ну, хотя бы остов, дальше я сам допишу. Люблю, чтобы автор предлагал нам размотать предлагаемую им историю. Пусть трагическую или драматическую. Мне по душе, когда я встречаюсь с таким материалом, как «Эзоп», «Наедине со всеми», «Живи и помни!». Там есть судьба, там есть про что разговаривать, за что бороться. Это же здорово! Ну, наверное, в классике костюмной тоже надо принимать участие, но мне видится в ней легковесность –ни для дела, ни для души. А вот «Цена» Миллера – это пьеса! Это вечная пьеса. Еду в троллейбусе, подходит женщина: «У моего мужа точно такая же ситуация и такой же брат, как ваш Уолтер. Холодный эгоист!». То есть, я получаю пощечину за своего персонажа! Это ведь здорово!
- А как насчет перевоплощения?
- Обычно считается: если тебя не узнали, это и есть перевоплощение. Ну, как не узнали, если это твой рост, твой голос. Даже если ты заскрипишь, все равно обнаружат по интонациям, по тому, как ты строишь речь. Можно изменить, что угодно, приклеить бороду, надеть три парика, налепить нос – но это все не перевоплощение. Это изменение внешнего облика. А перевоплощение – это как можно дальше уйти от себя, совершая поступки персонажа. Попытаться думать так, как думает он, поскольку не ты, а он совершает в спектакле те или иные поступки. И вот чем это будет глубже, чем точнее ты сумеешь присвоить себе его мысли и действия, тем совершенней будет перевоплощение. «Ну, Юрий Николаевич, вы такой в жизни положительный, зачем вы играете этого противного героя?». Это «Муж и жена снимут комнату». Там мой Борисов особенно противный был, говорил, что жену надо воспитывать. Взять 14-ти лет и воспитывать. И если зритель меня воспринимает так, любя, то момент перевоплощения, будем говорить, произошел. Хотя внешне я ничего в себе не менял. Я просто совершал недостойные поступки и говорил гнусные слова. Не менял, а изменился. Смотреть стал по-другому.
- Так что такая просьба дорогого стоит!
- Конечно. Хотя отрицательных персонажей играть интересней, потому что авторы выписывают их многогранно. Очень занятным был для меня и Карлсон в спектакле начала семидесятых «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Я как-то сразу сдружился с этим забавным персонажем Астрид Линдгрен, мы поняли друг друга, и он своими потрясающими фразами вроде «Я в меру упитанный мужчина в расцвете сил» вдохновлял меня на сценические подвиги. Практически я ничего не делал там голосом, все интонировалось как бы само собой, потому что самое потрясающее было в этой сказке то, что в ней можно было быть раскованным.
- Я знаю, ты много работаешь над произношением.
- Правильно, потому что в драматическом театре единственное выразительное средство - это слово. Оно главный инструмент, которым все доносится до зрителя. Поэтому когда слово непонятно, когда оно произносится всуе, когда артист не знает, про что он говорит, то это уже не искусство. Более того, слово - результат мыслительной деятельности. И уж коль скоро оно возникло, то ты должен его наполнить. Однако в вопросе овладения этим божественным даром не все благополучно. Я говорю это, зная истинное положение дел, потому что сталкивался с преподаванием.
- Вел занятия по сценической речи?
- Да, у нас при нашем театре было три набора в актерскую студию, которую вел Юрий Борисович Померанцев. Он был мастером, а я вел технику речи. И когда я столкнулся с учебным процессом, то убедился, что если у человека нет изначального желания привести в нужную форму свой речевой аппарат, то никакие старания педагога не дадут желаемого результата.
- Но достичь его, наверное, все-таки нелегко?
- Нелегко. Помню, в институте я буквально ненавидел своего педагога по речи, когда ходил к нему на индивидуальные занятия. У меня был мягкий звук «п». И он дал мне скороговорку: «Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп». Я знал, что, придя на это занятие, первые 15 минут буду стоять посреди класса и этой скороговоркой ублажать его. Он просто казнил меня ею. А сейчас я ему благодарен. И к этому, казалось бы, рутинному труду, к этой великой системе, на которой держится классическая театральная школа и которой актер должен неукоснительно следовать всю жизнь, я старался приучить молодых ребят, будущих служителей сцены. Был я потом также нештатным консультантом Института повышения квалификации работников культуры при Министерстве культуры Казахстана, по линии Казахского театрального общества ездил по театрам республики и проводил там семинары.
- Сегодня преподаешь?
- Нет, с этой практикой я покончил, потому что перестал видеть в глазах желание.
- Партнеры твои - много у тебя их?
- Я не сказал бы, что их так много, потому что порой мы встречаемся в спектаклях с одними и теми же актерами – и в одном, и во втором, и в третьем. А с кем-то из труппы вообще могу не встретиться много лет. Правда, сейчас в «Короле Лире» будет занято много актеров, с которыми я никогда на сцене не встречался.
- Как бы знакомство?
- Получается – да. Потому что с кем встречаешься часто, ты уже знаешь их нюансы, достоинства, слабые места. Так же, как они знают мои.
- Вы чувствуете друг друга?
- А как же! И это, конечно, уникальность, когда есть полное понимание. Последнее время с Толей Креженчуковым у меня так в спектакле «Мужской род, единственное число». Это просто удивительно! Он отличный партнер. Ну, а с Ниной Жмеренецкой - само собой. Оно очень приятно, когда партнер, мягко говоря, не игнорирует тебя. Потому что закон театра и наша профессия заключаются в очень простом: ты для партнера, партнер для тебя. А если ты хочешь сам по себе поиграть, то не выйдет ничего.
- Будет театр одного актера?
- Совершенно верно. Ну, и, конечно, как партнер прекрасен Юрий Борисович Померанцев. Я знаю это еще с «Собачьего сердца», где у меня была почти бессловесная роль его ассистента. Да и он до сих пор вспоминает: «Юрий Николаевич, вы помните, как мы с вами пели?». А мы в уголочке там на переднем плане сидели на полу и пели. И он тогда еще мне говорил: «Как вы умеете слушать!». Это был настоящий комплимент, потому что есть среди нас такая странность - порой партнеры словно уши затыкают, когда не они говорят. Сказал свое, а дальше хоть трава не расти. Среагировал невпопад, ну и Бог с ним! Но ведь надо жить спектаклем, даже в молчании соглашаться друг с другом или не соглашаться. Понимать и чувствовать все состояния партнера, угадывать его - это очень помогает ему. А еще приятно с Юрием Борисовичем то, что после спектакля или в антракте уже после первого акта он высказывает: «Ну, вы темпоритм задали!». А я: «Да это я за вами не успевал!». Известно, что даже если два азартных партнера действуют на сцене, то спектакль состоялся. Ведь театральное действо это не что иное, как процесс: один бросил - другой подхватил, другой бросил – первый подхватил. И - пошло!
- Представляю, какое при этом испытывается удовольствие?
- А как же! Зритель приходит получать его от увиденного на сцене, а мы испытываем его от того, как сыграли. В этом смысле Юрий Борисович партнер удивительный. Одиннадцать сезонов, включая нынешний, были для меня праздником, потому что раз или два в месяц я встречался с ним в миллеровской «Цене». Хорошая драматургия, блистательно поставленный Рубеном Суреновичем спектакль, отличное оформление, великолепное партнерство. Все сошлось. Да и вообще Юрий Борисович уникальное явление. Он преданный театру человек, живущий им и не могущий жить без него. Сейчас, пока в нашем театре ремонт, мы работаем на чужих площадках. И я решил недавно посмотреть, как принимает нас зритель в непривычных условиях. Был спектакль «Таланты и поклонники» Островского, который идет у нас давно, но я видел его лишь на сдаче. Юрий Борисович постановщик этого спектакля, и он же исполнитель одной из главных ролей – Нарокова.. Ну, это, я вам скажу, атомный реактор! Из него исходит такая энергия, что за ним тянутся все. Оно и хорошо, потому что в любом спектакле должен быть лидер, на которого равняются другие. Но удивляешься – откуда она, эта энергия? Удивляешься не потому, что ему 85, но и потому, что 85. Обрати внимание, я могу сказать: «Слушай, ему двадцать шесть лет», и это будет означать, что это старый человек. А я говорю «восемьдесят пять» так, что он еще совсем молодой человек. Молодой человек! Он никогда не придет на спектакль, вздыхая, что ему тяжело работать. Он не скучать приходит в театр, он приходит в него творить, и это большой, большой для всех нас пример.
- А, по-моему, вы все больны театром, все его фанаты!
- Это действительно так, потому что театр обладает свойством поглощать тебя целиком. Общение с ним не прекращается, даже если ты занят чем-то таким, что никакого отношения к нему не имеет. И вот представляешь - отыграл спектакль или провел несколько часов на репетиции, возвращаешься домой уставший. Едешь и еще, еще раз перебираешь в голове что-то из того, что произошло на сцене, вносишь какие-то коррективы, чему-то удивляешься. Потому что, какую пьесу ни возьми, в любом материале всегда что-то на донышке лежит. То, чего ты еще не достал, чего не прочитал. Или, готовясь к очередному спектаклю, берешь роль – пробежаться, посмотреть. Перебираешь страницы, и вдруг: «О, Господи, так ведь тут же поворотик можно сделать вот такой!». Говоришь об этом партнеру, а он: «Ух ты, и как такое в голову пришло!». «Так это же, оказывается, здесь в тексте все написано. Просто я не замечал». И ежели он «поймал» все мною сказанное и будет отвечать на все мои посылы, то роль наполнится новой тканью, свежими соками. То есть, эмоциональный всплеск должен быть постоянно. Извини меня за столь высокие слова, но я же художник. Я автор роли. Да, партитура ее, конечно, выстроена, но какие будут нюансы, чем я их наполню? Бывает, вечером спектакль, а ты не в настроении. Но стоит сесть к гримировальному столу, как все тут же меняется, а уж когда пошли звонки, - я там, я в спектакле!
- В одной из радиопередач ты говорил, что, будучи школьником, занимался в Уральской планерной школе, после чего поступил в летное училище и даже успел полетать на учебном ЯК-18. Однако по здоровью стать летчиком не получилось. Потом была работа в депо, на авторемонтном заводе. То есть, предполагался вроде бы иной жизненный путь. Но однажды все повернулось в сторону театра, и вот уже почти сорок лет ты на сцене. Случалось ли тебе пожалеть, что ты пришел в эту профессию?
- Никогда, ни единого раза, хотя мог бы, наверное, достичь чего-то и в другом каком-то деле. Профессия актера – ключ к познанию человека во всей его сложности и глубине. Ничто другое не дает возможности пропустить через себя такое множество судеб, характеров, темпераментов, миропредставлений. За одно лишь это стоит любить свою профессию, и я счастлив, что судьба привела меня именно к ней.